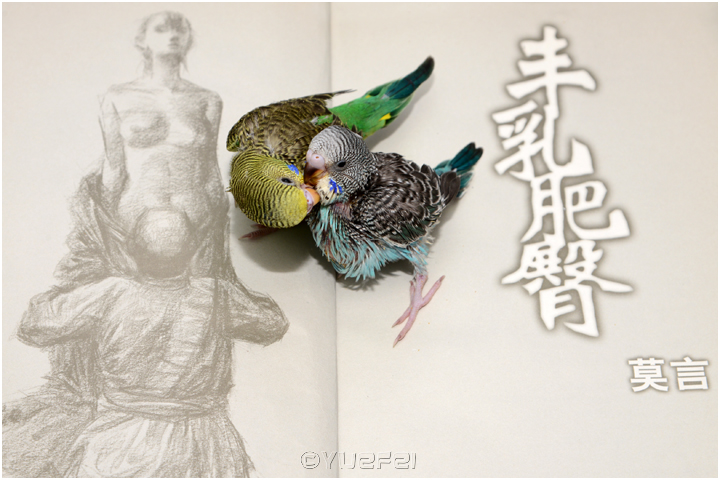Аз и я езьмь
 О криках, лязге, гуле, визге, стуке, жужжании, шорохах, высокочастотном «взззззззз» и других звуках южных городов Китая.
О криках, лязге, гуле, визге, стуке, жужжании, шорохах, высокочастотном «взззззззз» и других звуках южных городов Китая.
Я не знаю, что будит вас в Москве, Киеве и Минске. Мне, возможно, это вообще все равно. Но уже несколько месяцев в Гуанчжоу меня будят петухи.
Нет, это не деревня в Поволжье и нее хутор в Эстонии (где, по словам некоторых, живут легендарные эстонские крестьянки, которые молчат, работают за двоих и рожают по десять детей) — это район «Небесная река» — «Тяньхэ» в самом сердце колоссального супермегаполиса, который начинается в Фошане и тянется непрерывно до самого моря, упираясь в воду килями кораблей Гонконгского торгового флота. Петухи орут рьяно, не хуже чем где-нибудь в русской глубинке, разрывая звуковое пространство города, внося в утренние мысли какой-то веселый сумбур.
Это Юго-Восточная Азия. Однажды войдя в тебя целиком, она уже никогда не отпустит — не надейся забыть ее, глядя на родные березы, снега, на синие от подснежников придорожные леса по весне. Она будет приходить к тебе вот этим вот невероятными звуками, запахами и цветами — неуместными, слишком яркими, слишком громкими, слишком невероятными, чтобы это могло в тебе уместиться.
За моим окном живет бешеная орда людей, которых мы зовем «баоани». Слово это переводится, как «охранник», и очень в национальном духе ассоциируется со словом «болван» в русском. Видимо это какая-то военная, судебная или спец-служебная академия или школа. Может там они суперэлитные, я этого не знаю. Но если бы у нас военные подчинялись тому крику, который издают их командиры, то наша армия всенепременно ходила бы в форменных стрингах, каблуках с изрядным количеством косметики на лице… Звук раздается такой: женским тонким голосом командир визжит: «хико-хик-хик-хиккко!» (может быть это академия фильмов ужаса и они с утра поклоняются Альфреду Хичкоку… Если же это военные, то сила их, несомненно, велика — от одного такого возгласа враг умрет… от хохота). Газовая колонка включается щелчком, потом шумит, как бы раздумывая, а потом взвывает благим матом (этот бы голос командиру «баоаней») и ревет, как двигатель болида Шумахера, заезжающего на вершину горы Арарат. Моюсь и думаю: «когда же ты взорвешься-то уже, ведь не может что-то так выть и в конце не взорваться». Не взрывается. Приходит человек, слышит этот вой, крутит гаечку. Вой прекращается. Человек уходит.
 У меня странная работа. Большая часть моего рабочего времени уходит на то, чтобы куда-то или откуда-то доехать. Думаю, в основном за это мне и платят. За великое искусство добраться «туда-не-знаю-куда», притом, что ты в некотором смысле уже находишься «там не знаю где». Улица моя — уютный обжитой перекресток. Люди жили в Гуанчжоу за две тысячи четыреста девяносто с лишним, видимо, лет до мобильных телефонов, Гарри Поттера и фирмы «Эппл». И хотя это звучит невероятно — они научились делать перекрестки обжитыми! Они также подчинили себе этот невозможный мир звуков. В этот день мне доведется услышать много звуков. Звуки — это то, что сделает Азию твоей навсегда. Пройдет несколько секунд и еще до того, как передо мной остановится спешащее такси, я услышу постукивание палочкой. Это тот самый звук, который издает деревянная скалка, если по ней ударять деревянным пестиком или, скажем, деревянной ложкой. Тот, кто издает этот звук, имеет палочку наподобие палочки для игры на ксилофоне, а ударяет он по пустотелой деревянной лягушке (или жабке — я их не разбираю, особенно деревянных). Зачем он это делает — про то не знает никакая человеческая мудрость. Тем более что звук этот тихий, ненавязчивый, и без хорошего слуха его вообще услышать сложно. Но человек этот есть, я уже видел его в других городах. В музее города Макао, неподалеку отсюда, они записали звуки города и сохранили их. Это те самые звуки, которые я слышу сейчас — музей звуков — вокруг меня. Хлопает недобитая хлопушка (только что был китайский новый год) и вслед за ней раздается дооолгий, как гладкое тело таксы, крик старьевщика. Это точно старьевщик, он идет вдоль домов с большим велосипедом, на котором лежат такие сокровища, что трудно провести грань, где тут заканчивается успешный бизнес городского дельца и начинается альтруистическое хобби по сбору уличного мусора. Впрочем, за бутылки они дают настоящие деньги, даже удивительно, что они у них есть. Но тут я проверял — однажды я остался жить один в целом доме иностранных преподавателей. Когда у меня закончились деньги, я прошел по квартирам и собрал бутылки… бедность в отдельно взятом районе была навсегда побеждена. В то время, пока я предаюсь воспоминаниям, старьевщик неспешно прогуливается по улицам, подвывая и подтягивая свои призывные рулады. Он тут не один. Где-то в глубине домов, уже садясь в такси, я слышу лязг металла о металл — ага, это мне тоже знакомо — точильщик, идущий от района к району, уже добрался и до нас. Значит, время позднее и мне уже нужно полным ходом ехать в мое «туда — не знаю — куда». Город никогда не спит. И если сравнивать его с ульем, то любой город — это именно китайский улей, тот, который стоит не в живописных среднерусских долинах, а в пыли у дороги, обильно снабжая своих пчелок угарным газом, смолами и копотью проезжающих мимо дребезжащих керосинок. Наверное, он не самое экологичное место на земле, но я люблю его душно-сладкий мед, и я привык к его суетливому жужжанию. Он не то, чтобы любит меня, но как-то по-старшинству присматривает за мной, не давит и разрешает оставаться тем, что я есть. Что-то подобное я, помню, смотрел в каком-то фильме с Эминемом в главной роли. Потом и сам видел это в Нью-Йорке — футуристичный пейзаж большого города и электричка, которая уносит человека. И когда, бывает, видишь что-то подобное в кино, обязательно нахлынет на тебя ностальгия и ощущение какой-то утраты, и мысль о том, что можно бы сделать больше и добиться лучшего и еще ухватить в этой жизни судьбу за горло… так действует на человека то, что так ругал в своих книгах Жак Деррида: европейский логоцентризм. Попросту — это вера в том, что он есть, объективный смысл этой жизни, что его можно найти, отыскать и, подобно пастуху из книги Коэльо, взлететь в самом конце пути, и тогда, вот, все будет достигнуто, ты будешь на вершине жизни и это-то и будет настоящее счастье. Электричка на Шеньчжень похожа на пулю из фантастического оружия гигантского робота — трансформера. Примерно с такой же скоростью она и движется. Знакомое и воспетое «дудух-дудух» превратилось здесь в высокочастотное «взззззззз», приглушенное герметичными окнами и тихим шорохом кондиционера. Я думаю, когда Деррида называл логоцентризм явлением исключительно западным, он просто не хотел утверждать того, в чем не разбирался. Люди вокруг меня наверняка верят во что-то. В буддийских храмах по всей стране стоит дым ароматических свечей. И только свечи эти все большего и большего размера — за большие и большие деньги. А монах — даос в старинном храме, занесенном две тысячи лет назад илом Желтой реки в Лояне, тоже претендует на знание полезных истин, с которыми охотно расстается за большую или мелкую мзду — в зависимости от вида своего прихожанина. Логоцентризм — явление не культурное, как думал Деррида, а, скорее, коммуникативное и когнитивное. Логоцентризм универсален. Люди вокруг меня так же точно ищут смысл жизни. Просто видят они его по-другому, как — я могу только догадываться, вглядываясь в их задумчивые глаза, читая в них мысли, несущиеся куда-то со скоростью 200 километров в час не под стук, а под визг колес…
У меня странная работа. Большая часть моего рабочего времени уходит на то, чтобы куда-то или откуда-то доехать. Думаю, в основном за это мне и платят. За великое искусство добраться «туда-не-знаю-куда», притом, что ты в некотором смысле уже находишься «там не знаю где». Улица моя — уютный обжитой перекресток. Люди жили в Гуанчжоу за две тысячи четыреста девяносто с лишним, видимо, лет до мобильных телефонов, Гарри Поттера и фирмы «Эппл». И хотя это звучит невероятно — они научились делать перекрестки обжитыми! Они также подчинили себе этот невозможный мир звуков. В этот день мне доведется услышать много звуков. Звуки — это то, что сделает Азию твоей навсегда. Пройдет несколько секунд и еще до того, как передо мной остановится спешащее такси, я услышу постукивание палочкой. Это тот самый звук, который издает деревянная скалка, если по ней ударять деревянным пестиком или, скажем, деревянной ложкой. Тот, кто издает этот звук, имеет палочку наподобие палочки для игры на ксилофоне, а ударяет он по пустотелой деревянной лягушке (или жабке — я их не разбираю, особенно деревянных). Зачем он это делает — про то не знает никакая человеческая мудрость. Тем более что звук этот тихий, ненавязчивый, и без хорошего слуха его вообще услышать сложно. Но человек этот есть, я уже видел его в других городах. В музее города Макао, неподалеку отсюда, они записали звуки города и сохранили их. Это те самые звуки, которые я слышу сейчас — музей звуков — вокруг меня. Хлопает недобитая хлопушка (только что был китайский новый год) и вслед за ней раздается дооолгий, как гладкое тело таксы, крик старьевщика. Это точно старьевщик, он идет вдоль домов с большим велосипедом, на котором лежат такие сокровища, что трудно провести грань, где тут заканчивается успешный бизнес городского дельца и начинается альтруистическое хобби по сбору уличного мусора. Впрочем, за бутылки они дают настоящие деньги, даже удивительно, что они у них есть. Но тут я проверял — однажды я остался жить один в целом доме иностранных преподавателей. Когда у меня закончились деньги, я прошел по квартирам и собрал бутылки… бедность в отдельно взятом районе была навсегда побеждена. В то время, пока я предаюсь воспоминаниям, старьевщик неспешно прогуливается по улицам, подвывая и подтягивая свои призывные рулады. Он тут не один. Где-то в глубине домов, уже садясь в такси, я слышу лязг металла о металл — ага, это мне тоже знакомо — точильщик, идущий от района к району, уже добрался и до нас. Значит, время позднее и мне уже нужно полным ходом ехать в мое «туда — не знаю — куда». Город никогда не спит. И если сравнивать его с ульем, то любой город — это именно китайский улей, тот, который стоит не в живописных среднерусских долинах, а в пыли у дороги, обильно снабжая своих пчелок угарным газом, смолами и копотью проезжающих мимо дребезжащих керосинок. Наверное, он не самое экологичное место на земле, но я люблю его душно-сладкий мед, и я привык к его суетливому жужжанию. Он не то, чтобы любит меня, но как-то по-старшинству присматривает за мной, не давит и разрешает оставаться тем, что я есть. Что-то подобное я, помню, смотрел в каком-то фильме с Эминемом в главной роли. Потом и сам видел это в Нью-Йорке — футуристичный пейзаж большого города и электричка, которая уносит человека. И когда, бывает, видишь что-то подобное в кино, обязательно нахлынет на тебя ностальгия и ощущение какой-то утраты, и мысль о том, что можно бы сделать больше и добиться лучшего и еще ухватить в этой жизни судьбу за горло… так действует на человека то, что так ругал в своих книгах Жак Деррида: европейский логоцентризм. Попросту — это вера в том, что он есть, объективный смысл этой жизни, что его можно найти, отыскать и, подобно пастуху из книги Коэльо, взлететь в самом конце пути, и тогда, вот, все будет достигнуто, ты будешь на вершине жизни и это-то и будет настоящее счастье. Электричка на Шеньчжень похожа на пулю из фантастического оружия гигантского робота — трансформера. Примерно с такой же скоростью она и движется. Знакомое и воспетое «дудух-дудух» превратилось здесь в высокочастотное «взззззззз», приглушенное герметичными окнами и тихим шорохом кондиционера. Я думаю, когда Деррида называл логоцентризм явлением исключительно западным, он просто не хотел утверждать того, в чем не разбирался. Люди вокруг меня наверняка верят во что-то. В буддийских храмах по всей стране стоит дым ароматических свечей. И только свечи эти все большего и большего размера — за большие и большие деньги. А монах — даос в старинном храме, занесенном две тысячи лет назад илом Желтой реки в Лояне, тоже претендует на знание полезных истин, с которыми охотно расстается за большую или мелкую мзду — в зависимости от вида своего прихожанина. Логоцентризм — явление не культурное, как думал Деррида, а, скорее, коммуникативное и когнитивное. Логоцентризм универсален. Люди вокруг меня так же точно ищут смысл жизни. Просто видят они его по-другому, как — я могу только догадываться, вглядываясь в их задумчивые глаза, читая в них мысли, несущиеся куда-то со скоростью 200 километров в час не под стук, а под визг колес…
 Шеньчжень совершенно невозможен. Он просто не мог вырасти здесь, из небольшой деревушки прямо на границе с Гонконгом, рядом с переходом со странно звучащим называнием «Лоху». Лоху закован в бетон, как китайский воин династии Тан в свои доспехи. И все-таки, глядя на гладкие, без единого деревца холмы в дали (это полоса отчуждения между материком и Гонконгом, пройдет не так много лет, и на этой земле тоже будут стоять небоскребы), я невольно задумываюсь о том, сколько дней понадобилось бы дикой местной растительности, которую я видел на подступах к городу, чтобы сделать из него если не цветущий сад, то по крайней мере непроходимые джунгли. Здесь настоящий юг. И летом я с завистью гляжу на поджарых южных китайцев с выпяченными губами и сплюснутым носом — наследников юго-восточных культур, которые тысячелетиями переплавлялись в горниле культуры Хань — основного китайского этноса. Это их земля, им здесь хорошо и привычно, всем остальным природа дает понять, что они гости. Шеньчжень — это шорох десятков тысяч пар обуви по бетонным плитам перехода: ежедневно тысячи и тысячи людей переходят границу из Гонконга в Китай утром и возвращаются обратно вечером. Шеньчжень вырос здесь как рука, протянутая Китаем своему блудному сыну. Несколько десятков лет назад этот короткий переход означал смену буквально всего: языка, образа жизни, уровня экономики, привычек и поведения, то сейчас граница выглядит как недоразумение — руки уже почти сомкнулись. Нет. Не совсем. Гонконгцы плохо говорят на официальном китайском наречии. Они уже и на английском говорят плохо из рук вон. В ходу у них традиционный «Аоюй» — язык, на котором говорят в провинции Гуандун. Он здесь повсюду — мягкий, певучий, и одновременно отрывистый, крошащийся хлебными крошками, подхватываемыми стремительными голубями, сыплющий зерном на стеклянный стол в офисе на восьмидесятом этаже дорогого гонконгского небоскреба. Именно это язык модернизации, предпринимательства, язык первых китайцев, которые вернулись на материк, чтобы зарабатывать деньги и развивать китайскую экономику, наверное, это также и язык неравенства между теми, кто едет из бедных северных провинций сюда, на богатый юг в надежде преуспеть, ухватить удачу за хвост и так бесконечно далее. Я запрыгиваю в автобус, и он несет меня по громким улицам, по жужжащим хайвэям, мимо пальм, мимо жаркого ветра, мимо всей этой чужой и одновременно такой знакомой мне и привычной южно-китайской жизни, которая никогда не станет своей или родной, но и не отпустит теперь уже никогда. Впрочем, всегдашнее старание интериоризировать действительность, придать ей статус близости и знакомости чаще лишает возможности увидеть и ощутить что-то действительно новое и интересное, чем дает возможность воплотить саму интенцию. Это труднее всего — избавиться от всего, что тебя держит где-то когда-то и зачем-то. Причем всегда есть ощущение, что одни привычки ты при этом меняешь на другие.
Шеньчжень совершенно невозможен. Он просто не мог вырасти здесь, из небольшой деревушки прямо на границе с Гонконгом, рядом с переходом со странно звучащим называнием «Лоху». Лоху закован в бетон, как китайский воин династии Тан в свои доспехи. И все-таки, глядя на гладкие, без единого деревца холмы в дали (это полоса отчуждения между материком и Гонконгом, пройдет не так много лет, и на этой земле тоже будут стоять небоскребы), я невольно задумываюсь о том, сколько дней понадобилось бы дикой местной растительности, которую я видел на подступах к городу, чтобы сделать из него если не цветущий сад, то по крайней мере непроходимые джунгли. Здесь настоящий юг. И летом я с завистью гляжу на поджарых южных китайцев с выпяченными губами и сплюснутым носом — наследников юго-восточных культур, которые тысячелетиями переплавлялись в горниле культуры Хань — основного китайского этноса. Это их земля, им здесь хорошо и привычно, всем остальным природа дает понять, что они гости. Шеньчжень — это шорох десятков тысяч пар обуви по бетонным плитам перехода: ежедневно тысячи и тысячи людей переходят границу из Гонконга в Китай утром и возвращаются обратно вечером. Шеньчжень вырос здесь как рука, протянутая Китаем своему блудному сыну. Несколько десятков лет назад этот короткий переход означал смену буквально всего: языка, образа жизни, уровня экономики, привычек и поведения, то сейчас граница выглядит как недоразумение — руки уже почти сомкнулись. Нет. Не совсем. Гонконгцы плохо говорят на официальном китайском наречии. Они уже и на английском говорят плохо из рук вон. В ходу у них традиционный «Аоюй» — язык, на котором говорят в провинции Гуандун. Он здесь повсюду — мягкий, певучий, и одновременно отрывистый, крошащийся хлебными крошками, подхватываемыми стремительными голубями, сыплющий зерном на стеклянный стол в офисе на восьмидесятом этаже дорогого гонконгского небоскреба. Именно это язык модернизации, предпринимательства, язык первых китайцев, которые вернулись на материк, чтобы зарабатывать деньги и развивать китайскую экономику, наверное, это также и язык неравенства между теми, кто едет из бедных северных провинций сюда, на богатый юг в надежде преуспеть, ухватить удачу за хвост и так бесконечно далее. Я запрыгиваю в автобус, и он несет меня по громким улицам, по жужжащим хайвэям, мимо пальм, мимо жаркого ветра, мимо всей этой чужой и одновременно такой знакомой мне и привычной южно-китайской жизни, которая никогда не станет своей или родной, но и не отпустит теперь уже никогда. Впрочем, всегдашнее старание интериоризировать действительность, придать ей статус близости и знакомости чаще лишает возможности увидеть и ощутить что-то действительно новое и интересное, чем дает возможность воплотить саму интенцию. Это труднее всего — избавиться от всего, что тебя держит где-то когда-то и зачем-то. Причем всегда есть ощущение, что одни привычки ты при этом меняешь на другие.
 Очень-очень поздняя ночь. Широкое полулежачее кресло двухэтажного автобуса. Дождь. Дождь летит прямо мне в лицо, не долетает каких-то сантиметров и расшибается о широкое обзорное стекло, через которое я смотрю в ночь. Мерный гул двигателя. Днем, в ясную погоду, кабина скоростных дальних автобусов всегда покрыта слоем разбившихся придорожных мошек. Я видел их. И сейчас я думаю — куда ж подевались эти мошки в ливень? Ведь не может быть, чтобы у мошек был дом, где они прятались бы каждый раз от дождя? И я думаю, что может в ливень расшибающаяся о стекло моего автобуса мошка попадает не на гладкую поверхность, а в капли налипшего на стекло дождя и ничего, и все обходится благополучно, и ее сдувает ветром и несет дальше — без логики, без присутствия и без всякого смысла жизни.
Очень-очень поздняя ночь. Широкое полулежачее кресло двухэтажного автобуса. Дождь. Дождь летит прямо мне в лицо, не долетает каких-то сантиметров и расшибается о широкое обзорное стекло, через которое я смотрю в ночь. Мерный гул двигателя. Днем, в ясную погоду, кабина скоростных дальних автобусов всегда покрыта слоем разбившихся придорожных мошек. Я видел их. И сейчас я думаю — куда ж подевались эти мошки в ливень? Ведь не может быть, чтобы у мошек был дом, где они прятались бы каждый раз от дождя? И я думаю, что может в ливень расшибающаяся о стекло моего автобуса мошка попадает не на гладкую поверхность, а в капли налипшего на стекло дождя и ничего, и все обходится благополучно, и ее сдувает ветром и несет дальше — без логики, без присутствия и без всякого смысла жизни.
И тогда я мыслями улетаю ко всем кого я люблю, и жалею, что у меня так мало времени и возможности, чтобы сказать моим близким, о том, как они важны для меня. Под мерный шум двигателя, под дождь за окном и надежду, что все обойдется…
7 мая 2009
Гуанчжоу, КНР
Читайте далее
Другие статьи из блога РКШ